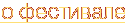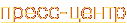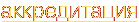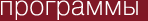[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
«Социалистический авангард: между новаторством и архаикой» - так можно было бы определить тему нынешней программы, если бы разделяющая оба полюса грань не была столь зыбкой и трудноопределимой. В этом смысле эталон нынешней ретроспективы – «Дорогой ценой» (1957) Марка Донского. Картина, на родине признанная провальной – рыхлой, декоративной и попросту неактуальной, в кинотеатрах почти не шедшая - стала откровением год спустя для молодых кинематографистов Франции и Англии. «Этой картиной Донской создаёт новую традицию» - писала французская критика. Появление «Теней забытых предков» и всего «поэтического кино» целиком подтвердило в середине 60-х её правоту. Впрочем, броская форма – одновременно сигнал закрытия традиции: броскость порождена энергией распада, и в этом смысле может открывать новую традицию, о том подчас и не подозревая. Исступлённая выразительность композиций поверх внутреннего смысла происходящего в монтажном кино рубежа 20-30-х - и в «Привидении, которое не возвращается» (1929) А.Роома, и в «Хлебе» (1930) – виртуозном упражнении одарённого сатирика (за то не раз битого) Н.Шпиковского в стилистике Довженко и Кавалеридзе - отзовётся кратким, но бурным всплеском три десятка лет спустя в оттепельном кино рубежа 50-60-х. Сочетание эстетики немыслимых сверхэкспрессивнымх ракурсов с каноническим сюжетом о героических комсомольцах гражданской войны («Ветер» А.Алова и В.Наумова, 1958) или даже о разоблачении происков иностранной разведки («Десять шагов к востоку» В.Зака и Х.Агаханова, 1960) порождает зрелище раздражающее и завораживающее одновременно. В экранизации «Разгрома» А.Фадеева – дипломе М.Калика и Б.Рыцарева - это сочетание будет сочтено киноруководством столь кощунственным, что картине не позволят носить название классического первоисточника – его заменят на обобщённое «Юность наших отцов» (1958).
Между тем в «Привидении…» едва ли не впервые в мировом кино будет демонстративно стёрта грань между переходом из яви в сон и обратно, что так поразит первых зрителей «Восьми с половиной»; кадры из «Хлеба» с землёй, уходящей за верхнюю рамку экрана, ошеломляют своим сходством с трагическими композициями «Каменного креста». А «сверхэкспрессивное» кино рубежа 50-60-х явно готовит появление «Я Куба» - фильма, где архаика и новаторство вообще неотделимы друг от друга.
Воистину «бывают странные сближения». «Чудесница» (1937) Александра Медведкина – история о том, как девочка-колхозница перестраивает мир по собственному разумению – смотрится сегодня одновременно и лирико-комедийной версией «Бежина луга» и своего рода опережающей пародией на «Члена правительства», который будет поставлен два года спустя. Воспоминания о традициях условного театра 20-х в короткометражках Г.Козинцева 1942 года «Юный Фриц» и «Однажды ночью» будут выглядеть на фоне «Боевых киносборников» столь странно, что не увидят экрана. А в 60-70-х откровенно условная декоративность экранного пространства в советском кино уже не о театре напоминает, но становится одним из ведущих, наиболее эффективных приёмов. В киноэксцентриаде она блистательно воплощает вопиющую плоскостность массового сознания, из которой выламывается герой – этот приём превращает в язвительную сатиру вроде бы детский фильм «Спасите утопающего» (1968) Павла Арсенова; воплощением советского абсурда становится традиционнейший авантюрный сюжет у Геннадия Полоки в «Одном из нас» (1970) - блистательной стилизации под шпионские фильмы конца 30-х. Фильм на историко-революционном материале «Первороссияне» (1968) поставленный театральным режиссёром Евгением Шифферсом с благословения патриарха «Ленфильма» Александра Иванова, фильм, который никто не мог увидеть последние четверть века - ещё одна сенсация программы! - оказывается, благодаря всё той же откровенной декоративности, выстроен по законам религиозной мистерии. А фольклорно-лубочная «Небывальщина» (1981) Сергея Овчарова привлечёт внимание Медведкина, продолжающего мечтать о воплощении своего самого заветного (с середины 30-х годов!) замысла – «Окаянная сила» - истории мужиков, ищущих счастья на земле и на небе.
Ещё одна парадоксальная пара – «Хабарда» Михаила Чиаурели и «Государственный чиновник» Ивана Пырьева. Поставлены в одной и той же – вроде бы! – стилистике: сатирический гротеск. В одном и том же году – 1930-м. Фильм Чиаурели – классический авангард и по смыслу, и по пафосу – демонстрация принципиального разрыва не только с языком и содержанием традиционной культуры, но и с её носителями. Принят руководством и критикой на «ура». «Госчиновник» в первоначальной версии вовсе не принят. И как ни пытается при переработке режиссёр замаскировать патетическими ракурсами действительное содержание, но классический сюжет «маленького человека» выпирает наружу. Так что Достоевский в кинематографе Пырьева возникает куда раньше колхозных комедий. Как, впрочем, и пристрастие к стилю немецкого киноэкспрессионизма.
Ретроспективу венчает последнее творение рыцаря социалистического авангардизма Сергея Юткевича «Ленин в Париже» (1981) – эпитафия феномену. Наглядное подтверждение того, что к концу ХХ столетия «революция» и «авангард» синонимами больше не являются. У каждого своя дорога в перспективе грядущего столетия.
Евгений Марголит